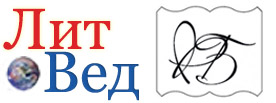Ирина Роднянская. Прожитие жизни.
 Советский подданный был научен, что любой документ начинается с графы «ФИО».
Советский подданный был научен, что любой документ начинается с графы «ФИО».
Так вот: я – Роднянская Ирина Бенционовна. Происхождения своей фамилии не знаю, но, как-то путешествуя по Тверской земле, прочитала на стенде в старинной Старице, что льноводческий совхоз Роднянский выполнил план на 101%. Может, мигрируя из Польши или Литвы через эти места, мои предки и добрались до местечка Сураж, откуда родом отец. Новое имя Бенцион, согласно семейным рассказам, мальчику дали после выздоровления от смертельно опасной болезни (таков был обычай), и в переводе оно означает: «сын Сиона». Так что я, в некотором роде, «внучка Сиона», что на сегодняшний день меня вполне устраивает («Ненавидящие Сиона, посрамитеся от Господа!»). Отец был врачом, эндокринологом, мать – вокалистом, преподавателем пения. Дед по матери – народовольцем (в той же группе, что и Вера Фигнер), проведшим на каторге и в ссылке десять лет (потом, разочаровавшись в революции, ненадолго увлекся сионистскими идеями). А освобожден он был, приговоренный к двадцати годам несвободы, благодаря амнистии Николая II при его восшествии на престол, — и тогда-то повстречал свою будущую жену, «идейную» фельдшерицу (ездила на холерные эпидемии и получила почетную грамоту от полтавского губернатора). Выходит, царю-мученику я косвенным образом обязана своим появлением на свет, — о чем помню не шутя.
Родилась в Харькове в 1935 году, по адресу, врезавшемуся в память: Пушкинская улица, дом 49а (не переименована ли под флагом украинизации?). Кто такой Пушкин, я узнала трех лет от роду, если не раньше, так как бабушка любила читать мне бой Руслана с головой (семья, чисто еврейская по крови, была вполне ассимилирована в русскую культуру). В три с половиной года дед выучил меня чтению, но тут, в 1938-м, его арестовали (как почти весь дом политкаторжан, в котором мы жили) и быстренько расстреляли («ежовщина»!). Всеми подробностями такого рода хочу продемонстрировать, что меня от рождения и даже до него крепко вписали в отечественную историю, и она мне остро небезралична.
Имя Гитлера мне тоже пришлось скоро услышать: помнится, в двадцатых числах июня понятного года иду по Сумской улице промеж пирамидальных тополей, держась за материнскую руку, и спрашиваю; «Мама, а кто такой Гитлер?» Из Харькова семьи работников папиного Института эндокринологии были эвакуированы очень рано, так что я не вкусила бомбежек. Где мобилизованный отец, долго не знали, но, как оказалось, институт превратили в эвакогоспиталь и направили в г. Сталинск (ныне Новокузнецк Кемеровской области), куда женская часть семьи, в конце концов, добралась и где я провела детские дворовые и первый школьный годы.
В 1944 году отца демобилизовали и отправили в Черновцы на организацию мединститута; там, на рiднiй Украiнi, а точней – на Буковине, я закончила школу. Я рвалась прочь из этого прелестного австровенгерско-румынско-гуцульско-еврейского городка, воображая его мещанским, а все окружение – нестерпимо пошлым, и, с благословения родителей, отправилась искать счастья в Москву. До 8-го класса я мечтала о профессии химика, начитавшись научно-популярной литературы об открытии новых элементов; но потом увлеклась русской классикой и чтением Белинского и вознамерилась стать литературным критиком.
В 1952 году подала документы на философский факультет Московского университета (там в учебной программе были, наряду с гуманитарными, естественные и точные науки, а мне не хотелось с ними расставаться), но, со своей серебряной медалькой, провалилась на беспощадном (с учетом моего пятого пункта) собеседовании и оказалась в Московском библиотечном институте. (Кстати, туда, под Химки, во время кампании против «космополитов» были «сосланы» многие замечательные преподаватели, как не воскликнуть, что всё к лучшему!) Попутно еще замечу, что мои попытки продолжить образование в других учебных учреждениях с тех пор пресекались раза три; но, успев к тому времени разочароваться в коммунистическом государстве как таковом — а ведь четырнадцати лет в комсомол вступала с энтузиазмом! – государственный антисемитизм я стала воспринимать просто как одну из его, государства этого, второстепенных граней, и травмирована была не слишком.
… Март 1953-го – особая тема. Движимая звериным любопытством и не испытывая ни малейшей скорби, я вдвоем с подругой-однокашницей пыталась пробиться в Колонный зал, мы искали обходные пути, прыгали с крыши какого-то дворового двухэтажного строения, но, к счастью, были прочно остановлены в районе Трубной (двух девочек из нашего института, более прытких, задавило насмерть).
Считала же я себя в студенческие годы отщепенкой, вторым Климом Самгиным (и написала огромную дипломную работу по этому роману Горького); но зачитывание в 1956 году, на последнем курсе, «закрытого» письма Хрущева о Сталине, излечило меня от этого самокопания. Сильное было впечатление: на сцене пыток Роберта Эйхе одна из слушательниц упала в обморок… Так что и я принадлежу, получается, к «детям ХХ съезда», но лояльной к послесталинскому строю с его «восстановлением ленинских норм» — не стала.
В Студенческом научном обществе нашего института начались мои литературно-критические опыты, среди них в 1954 или в 1955 году – доклад об «Оттепели» Ильи Эренбурга. Этот текст сыграл роль в дальнейшей моей судьбе: через доброжелательных посредников попал на глаза тогдашнему начальнику «Литературки» В. Косолапову, и тот, в оттепельной атмосфере, решился на мой дебют: заказал рецензию на свежую повесть Сергея Залыгина «Свидетели» (вот такая жизненная рифма: десятилетия спустя я стала по приглашению Сергея Павловича работать в «Новом мире»). С этого газетного подвала, с 1956 года, стал отсчитываться мой литературный стаж.
Дебют этот я встретила в упомянутом выше Сталинске (еще не лишенном своего знатного имени), куда, окончив институт со специальностью «библиотекарь-библиограф», попросилась работать «по распределению» (сказались ностальгические впечатления детства). На первый в жизни гонорар купила большой кусок ярко-синего штапеля и, завернувшись в него наподобие индийского сари, отправилась на новогодний маскарад в местный клуб.
Самым громким моим деянием на библиотечном поприще была организация читательской конференции по роману В. Дудинцева «Не хлебом единым» во Дворце культуры Кузнецкого металлургического комбината (КМК) совместно с его БРИЗом («Бюро рабочего изобретательства»). Впервые я присутствовала при таком мощном выплеске народного недовольства и общего радостно-возбужденного бесстрашия – до двух ночи, в старом Кузнецке, где в это время суток ходить было порядком опасно. И дивилась: неужто я – та самая синица, что подожгла море! (Слава Богу, что вкусив этот хмель, я все же впоследствии не «повелась» на него.) Заведующая Дворцом культуры, святая душа, за эту историю получила по партийной линии выговор «с занесением», но на меня даже не рассердилась и безуспешно уговаривала меня вступить в партию (я не настолько глупа, чтобы не понимать, что и среди коммунистов были праведники).
В Новокузнецке я провела два года вместо отработки положенных трех и после неудачной попытки попасть в аспирантуру Литинститута (уже была принята, но тут мое место по распоряжению начальства закрыли) решила зацепиться в столице, где единственно можно было бы продолжить литературно-журнальную работу. В активе у меня уже была опубликованная статья о Николае Заболоцком, и родители готовы были помогать мне материально. (Часто думаю о тех моих знакомцах, которые обладали никак не меньшими, чем я, гуманитарными способностями, но, не имея элементарной стартовой площадки, не смогли их реализовать; невольно возникает чувство вины.) Наконец, я прописалась у некой подмосковной старушки в качестве опекунши и честно выполняла свои обязанности, впрочем, ограниченные вождением ее в баню и добыванием московских продуктов.
В 1962 году я дебютировала в «Новом мире» длинной задиристой статьей, которую отметил А.Т. Твардовский и на основании которой «либералы» приняли меня в 1965 году в Союз писателей. Выдача членского билета точь-в-точь совпала с арестом Синявского и Даниэля, я – как новоиспеченный «член» — написала в их защиту открытое письмо попавшее, разумеется, за рубеж, — и мне за это ничего не было!!
Дальше, вплоть до «перестройки» шел бы скучный рассказ из жизни подсоветского журнального критика: печатали – не печатали, «пропускали» — «не пропускали» (к 1983-84 годам второе радикально возобладало над первым) – рассказ скучный, если бы не одно событие, вероятно, главное в моей взрослой жизни. А именно, в 1963 году я приняла Крещение и стала членом Русской Православной Церкви. К этому я пришла не только под особенным впечатлением от чтения Евангелия и не только под влиянием дружбы с мужем моей школьной приятельницы (ныне – о. Георгием Эдельштейном, с приходом под Костромой), но и благодаря книгам Генриха Бёлля, что называется, достигшим моего сердца. Впоследствии с их автором меня познакомил светлой памяти Лев Зиновьевич Копелев, и об этих встречах остались дорогие мне воспоминания. О Бёлле я написала книгу, но ее зарубил некто из начальствовавших тогда в издательстве «Художественная литература» — за «абстрактный гуманизм». «Вы начитались Ясперса», — почему-то умозаключил он (Ясперса я тогда не читала ни строчки) и в частном порядке добавил: «Я воевал с немцами, а Вы их любите». Бёлль действительно был для меня воплощением немцев, которых нельзя не любить… К этой книге я больше не возвращалась, ныне она устарела.
Приход ко Христу и Церкви – дело интимное; скажу только, что обновленный взгляд на мир открыл для меня как для интерпретатора иное измерение при анализе художественных созданий. Кроме того началось интенсивное знакомство с русской религиозной философией (по большей части через самиздат и тамиздат), отдельными фигурами которой я вскоре стала заниматься всерьез, что со временем пробилось в печать и в энциклопедические статьи. (Для литературной и философской энциклопедий я писала много и там обрела своих лучших друзей – борцов за свободную от господствующей идеологии мысль.)
В 1971 году умер отец, но мне как раз тогда удалось устроиться референтом в Институт научной информации по общественным наукам (ИНИОН), и работа там, вплоть до 1976 года, дала мне возможность познакомиться с зарубежными трудами по социологии и политической философии, что фактически равнялось некоему ценному этапу самообразования и в суждениях о литературе пригодилось весьма.
Но тут, после нескольких лет тягостного «непечатания» (разве что в инионовских изданиях ДСП – «для служебного пользовании»), начался перестроечный набор кадров (как в эпоху великих реформ Александра II, когда царь жаловался: «некем взять!»), и я попала в редакцию «Нового мира». Где с 1987 года проработала два с лишним десятилетия – припозднившееся счастливое время в моей жизни. Тогда же мне удалось издавать сборники накопившихся статей: в 1989 году в «Современнике» — «Художник в поисках истины» (постыдно лобовое название, но лучшего я придумать не сумела), в 1994 году в частном издательстве «Книжный сад» — «Литературное семилетие», в 2006 году в «Языках славянской культуры» — двухтомник «Движение литературы». Надеюсь кое-что из написанного в последнее время собрать в небольшую книжку «Мысли о поэзии в нулевые годы», а также вместе с единомысленным моим другом и соавтором философом Ренатой Гальцевой составить книгу из ее и моих работ «К портретам русских мыслителей».
…Я предполагала, что всю жизнь проживу под прессом оккупационного коммунистического режима (который точнее будет назвать «самооккупацией» ввиду соучастия в ней всех слоев и сословий), я не чаяла, что моей стране, вместо тягостной аббревиатуры, будет возвращено ее подлинное имя – Россия, что сказанное и сочиненное мною и моими коллегами по писательскому цеху не будет больше претыкаться о многоразличную идеологическую стражу. Удивительно, что я до всего этого дожила, что свершился девяносто первый год!
Перечитывая это растянувшееся «ФИО», сама изумляюсь: я, литератор, которого на сайте Пушкинской премии, кажется, квалифицируют как филолога (хотя, в сущности, я литературный критик с отдельными вылазками в классическую литературу и в философию), сочинила что-то вроде политической биографии. И это вместо того, чтобы рассказать о важнейших встречах именно на филологическом пути – скажем, с Сергеем Сергеевичем Аверинцевым или с ученым-стиховедом Александром Павловичем Квятковским, который вовлек меня в изучение русского стиха, а самой своей личностью передал эстафету от старших поколений русской интеллигенции.
Впрочем, этот странный автобиографический перекос мне диктует не «политика», а скорее метафизика и мистика Истории, внутри которой я жила и живу, снова чуя ее возможный слом.
Да, мне до слез жаль разъединения с моей великой «малой» родиной – Украиной, хотя я надеюсь, что в сюжете этой трагедии История еще не сказала последнего слова и что – уже за пределами моей жизни – все может обернуться по-другому. Да, неудовлетворительное окружающее побуждает многих из нас в очередной раз цитировать слова Пушкина из его знаменитого чернового письма к Чаадаеву от 19 октября 1836 года: «…я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя <…> это отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всякому долгу, справедливости и истине, это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству – поистине могут привести в отчаяние». НО (это «но» тоже ведь «пушкинское») в не меньшую тревогу приводит меня сегодняшняя полуапологетическая оглядка назад, в духовную тьму тоталитарной квазиимперии, — вместо терпеливого сращивания обрубленных связей с неподставной империей, Российской (при всех ее неоспоримых изъянах). Когда имя Сталина и имя Пушкина снова, как в 1937 году, тесно сопрягаются в помпезном, но более чем сомнительном телеопросе. Когда даже уважаемые люди готовы именовать возвращенный нам государственный бело-сине-красный флаг «бесиком» (российский «БоСяК», в отличие от французской «СоБаКи» — фамильярно и мило, не будем слишком серьезны в своем государственничестве, — но поругание уязвляет меня). Когда антилюдской цинизм пережитого страной террора списывается, охотно или с оговорками, на дальновидную державную необходимость.
Наше общество, включая сообщество литературное, не выдержавшее искушения свободой, — расколото. Оно не внемлет максиме, которую так любил повторять С.С. Аверинцев: «у дьявола две руки» — и ударяется либо в защиту бесстыдной вседозволенности, либо в апелляции к сталинскому «порядку». Утешает разве что вердикт Церкви, вынесенный, в частности, устами одного и ее выдающихся иерархов, владыки Илариона (Алфеева): «…Сталин был чудовищем, духовным уродом, который создал жуткую, античеловеческую систему управления страной, построенную на лжи, насилии и терроре. Он развязал геноцид против народа своей страны и несет личную ответственность за смерть миллионов безвинных людей. В этом плане Сталин вполне сопоставим с Гитлером. Оба они принесли в этот мир столько горя, что никакими военными или политическими успехами нельзя искупить их вину перед человечеством. Нет никакой существенной разницы между Бутовским полигоном и Бухенвальдом, между ГУЛАГом и гитлеровской системой лагерей смерти. И количество жертв сталинских репрессий вполне сопоставимо с нашими потерями в Великой Отечественной войне».
Думать-то мне в то недолгое время, пока я еще, как говорится, не выронила пера, хочется о художестве, о путях искусства, о «движении литературы». Но жизнь безжалостно отвлекает на другое…
Как бы там ни было, я сердечно благодарна тем, кто решил удостоить меня чисто литературной награды, осененной именем Пушкина, именем, которым мы все еще продолжаем «аукаться». Я совсем не ожидала такого, свалившегося на меня, сюрприза – и постараюсь не поколебать и не опозорить оценку, данную моей работе.
Ирина Роднянская