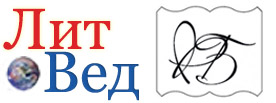Элина Свенцицкая. Проблема слова и языка в творчестве Вяч. Иванова: философские контексты и перспективы.
Опубликовано в СтатьиПроблема языка активно осмыслялась античной философией (диалоги Платона, Логос Гераклита, лектон стоиков). Далее средневековый спор номиналистов и реалистов вполне допускает редукцию к языковой проблематике: соотношение имени (названия) и предмета. В философии Нового времени (у Гоббса, Юма) язык становится выражением мысли или представления, за которыми, в логике скептицизма, может и не быть никакой объективной реальности. Здесь, безусловно, нарушается связь между языком и миром, свойственная античной философии, и связь между языком и Богом, свойственная средневековью. Затем, по мнению С. Булгакова, « вся новейшая философия, кроме философии Лейбница, прошла мимо языка, можно сказать, не заметив проблемы слова. Ни Кант, ни Фихте, ни Гегель не заметили языка, и потому неоднократно являлись жертвой этого неведения» [1,с.10].
Для Вяч. Иванова философия языка начинается с В.Гумбольдта. Она характеризуется, прежде всего, привлечением внимания к человеческой субъективности, причем «субъективность отдельного индивида снимается, смягчается и расширяется субъективностью народа, субъективность народа – предшествующими и нынешними поколениями, а субъективность этих последних – субъективностью человечества вообще. Без учета этой глубокой, внутренней связи всех языков невозможно постичь действие какого-либо отдельного языка» [2, с.365]. Принципиальна не только взаимосвязь общего и индивидуального, но и то, что общее здесь последовательно очеловечивается: и личность, и народ, и человечество здесь предстают как разномасштабные субъекты. Именно на человекомерности языка основывается у В. Гумбольдта его органичность: «…о каком бы предмете ни шла речь, его всегда можно соотнести с человеком, а именно с целым его интеллектуального и морального организма» [2, с.385 .В органической целостности языка, его «внутренней форме» — своего рода духовное тело человеческой личности, слово – «непосредственная действительность мысли», выражающая и личность, и дух народа.
Вяч. Иванов, безусловно, является последователем В. Гумбольдта, подчеркивая деятельностную природу языка: «Язык… есть одновременно дело и действенная сила, соборная среда, совокупно всеми непрестанно творимая, и обуславливающая всякое творческое действо с самой колыбели его замысла…» [3,с.396]. В приводимом высказывании симптоматично, как гумбольдтовская диалектика индивидуального и всеобщего выражается в славянской категории соборности, которая Вяч. Ивановым осмысливается именно как связь личностей друг с другом и с чем-то внеличностным, связь, проявленная через слово: «Соборность есть… такое соединение, где соединяющиеся личности достигают совершенного раскрытия и определения своей единственной, неповторимой и самобытной сущности, своей совокупной творческой свободы, которые делают каждую изглаголанным, новым и для всех нужным словом. В каждой Слово приняло плоть и обитает со всеми, и во всех звучит розно, но слово каждой находит отзвук во всех, и все – одно свободное согласие, ибо все – одно Слово» [3, с.100].
Личность здесь действительно воплощена в слово, а слово – в личность, в этой взаимной воплощенности – основа собирания людей в единое целое, но без утраты личности как отдельного феномена, без слипания индивидов в безликую массу. Слово соединяет единственных в единое, находясь внутри каждого, изменяясь в каждом так, как диктует своеобразие данной индивидуальности, в то же время сохраняя неизменность своего глубинного смысла. Обратим внимание, что в ивановском определении соборности параллельно устанавливаются отношения между личным и всеобщим, и отношения между тем словом, которое «вначале было» (и которое Вяч. Иванов пишет с большой буквы), и словом человека (которое пишется с маленькой буквы). Слово Бога здесь не отделено от человека непереходимой границей, оно присутствует в каждом, как энергия воссоединения, становясь условием одновременно и различия, и общности. Гумбольтдовские диалектика и человекомерность у Вяч. Иванова, безусловно, остаются актуальными и разрабатываются более детально. Определяя язык как «соборное целое», Вяч. Иванов как бы в скобках имеет в виду определенную конструкцию, причем идеальную, поскольку «соборность – не данность, а задание» («Легион и соборность»). С помощью этой конструкции личностность становится условием объединения личностей. Целое, включающее в себя личность, должно неизбежно с личностью соотноситься. Собственно, слово у Вяч. Иванова наполняется энергией личностного смысла.
С категорией соборности связан еще один важный момент в ивановском осмыслении языка: «Некое обетование чудится мне в том, что имя «соборность» почти не передаваемо в иноземных наречиях, меж тем как для нас звучит в нем что-то искони и непосредственно понятное, родное и заветное, хотя нет ни типического явления в жизни, прямо и всецело ему соответствующего, ни равного ему по содержанию единого логического понятия – «концепта»» [3, с.101]. В данном пассаже, по-видимому, звучат отголоски спора номиналистов и реалистов: выражает ли имя предмета его сущность или только называет определенные представления человека. Своеобразие ивановской концепции слова-имени состоит в том, что название не отражает, а формирует, точнее проявляет сущность как заложенную внутри национального духа. Эта сущность – не понятие и не явление, она четко не определена, но одновременно понятна – скорее всего, это нечто вроде платоновской врожденной идеи, но она не изначально задана, а создается и выражается словом.
В принципе, категория слова-имени концентрирует в себе отношение языка к сущему и к вещам. За данной категорией стоит античная парадигма: слово как знак присутствия, поэтому типичное слово – собственное имя (Дион у стоиков). Одновременно тут актуальна и средневековая религиозная философия, в которой слово становится носителем высшего смысла («Слово было у Бога и слово было Бог»). Кроме того, для русской религиозной философии имеславие – «философская предпосылка» (П.Флоренский), т.е. слово – не знак, а выражение, раскрытие присутствия Бога в созданной им реальности. Именно потому, по П.Флоренскому, слово – «это бытие, которое больше самого себя».
Однако имеславие действительно лишь «философская предпосылка» для осмысления слова-имени у Вяч. Иванова. Слово у него – не монада, не микрокосм, содержащий в себе макрокосм. И античность, и средневековый философский контекст в его творчестве живут, но в принципиальной динамике и взаимообращенности. Слово-имя Вяч.Ивановым трактуется как движение, направленное в две стороны одновременно: от вещественной, данной в ощущениях реальности к реальности духовной, сакральной, и обратно, от духовной реальности к вещественной. Слово-имя моделирует взаимодействие этих реальностей, когда нечто вещественное, конкретное не пассивно кем-то означивается, а само ищет себе имени как способа перехода в область духа, и, с другой стороны, сущности духовные хотят выразиться, т.е. сформироваться в конкретном явлении материального мира.
Яркое подтверждение этой мысли – стихотворение «Острова» (сб. «Свет вечерний»). Обратим внимание, что в стихотворении два слова написаны с прописной буквы – слова (именно во множественном числе) и острова, что говорит о родственности природы слова его пространственной локализации, слова и выражают себя через острова («так пленные тоскуют острова… Вы ту же быль запомнили, слова» – на этом соответствии и строится стихотворение). То есть, слово – сущность пространственная, оно занимает какое-то место в бытии.
Но где же находятся слова? С одной стороны – «нас в гости плыть к богам зовет зоря» — они движутся вверх. С другой стороны – «вкоренены недвижно вглубь земли» — состояние противоположное. Слово подвижно, как парус, и одновременно неподвижно, как остров, т.е. неподвижное пребывает в движении, отчего верх и низ меняются местами («…паруса созвездий тех вдали – Вкоренены недвижно вглубь земли»), а потом проникают друг в друга: «И влажную мы помним пелену, — Что в ласковом лелеет нас плену, — Как тонкую воздушную волну». Слово – не некий духовный предмет, а стихия, та среда, в которой смещается то, что устоялось, и проясняются новые связи.
Данная закономерность дает основания утверждать символическую природу слова и поставить проблему его смысла. Характерно, что у Вяч. Иванова символ — это особого рода знак (как дальнейшем будет у Ч.Пирса, Р.Барта, Ю.Лотмана). Так в статье «Две стихии в современном символизме» Вяч. Иванов пишет: «Символ есть знак, или ознаменование… Поистине, как все нисходящие из божественного лона, символ – «знак противоречивый»»[3, с.143].
Однако «знак» и «знамение» или «ознаменование» — это далеко не синонимические понятия: «Раскрывая в вещах окружающей действительности символы, т.е. знамения иной действительности, оно (искусство) представляет ее знаменательной. Другими словами, оно позволяет осознать связь и смысл существующего не только в сфере земного эмпирического сознания, но и в сферах иных»[3, с.143]. Знамение – не указание, а раскрытие присутствия, выражение высшей реальности, и когда действительность предстает знаменательной, это значит, что она оказывается пронизанной вертикальными смысловыми связями.
Но обратим внимание на своеобразие этой вертикали. В платоновской метафизике, из которой Вяч.Иванов исходит, идеальное внеположено реальному. Если применить эту закономерность к языку – смысл слова находится по ту сторону самого слова. Его невозможно обнаружить ни в самой звуковой данности слова, ни в грамматических и синтаксических структурах языка. А символическое мышление дает возможность увидеть в реальном мире выражение высшей реальности.
У Вяч.Иванова данная закономерность раскрывается в цикле «Слоки» (сборник «Прозрачность»). Определяющему называнию здесь подлежит только то, что выявляется вовне, что действует: «Кто скажет: «Здесь огонь» — о пепле хладном – Иль о древах сырых, слаженных в кладу?». Ясно, что огонь в пепле был, а в дровах содержится, но сказать «огонь» можно только тогда, когда он горит, т.е. проявляется. Смысл слова, следовательно, находится внутри слова, это его динамически активный аспект. Именно в этом, на наш взгляд, содержание внешней тавтологичности ряда словосочетаний: «волит воля», «свершается свершитель» и «делается деятель» и т.д. – суть, заключенная в существительных, неотделима от действия, выраженного в однокоренных глаголах. При этом онтологический статус личности также утверждается словом и неотрывен от движения: «И кто сказал: «Я есмь» — покой отринул». Бытие, проявляясь вовне через человека, творит самое себя, а слово является катализатором этого процесса.
Собственно, и рождение слова в «Слоках» представляется как временное развертывание, динамика смыслов. Вначале оно в будущем: «Кто скажет: «Здесь огонь…»», затем – в настоящем: «… Кто говорит: «Я — сущий»», и, наконец, в прошедшем: «И кто сказал: «Я есмь…»». Действие смыслополагания разворачивается от будущего к прошедшему, от возможности к осуществлению. Произнесение слова — это не просто утверждение бытия предмета как его действия, которое и выявляет наличие в нем идеального смысла. В нем – диалектика наименования и ознаменования: ««Жрец» нарекись, и ознаменуйся «жертва»». Таким образом, жрец узнает себя в жертве, а жертва в жреце, также как и огонь, который горит в первой строке, узнает себя в финальном жертвенном огне – идеальное, следовательно, раскрывает через слово свое присутствие в реальном.
В этом отношении, безусловно, Вяч. Иванов предвещает феноменологичекое понимание бытия как раскрывающегося, мыслимого человеком и особенно хайдеггеровскую концепцию бытия как присутствия. М. Хайдеггер полностью снимает платоновско-кантовскую иерархию, Вяч.Иванов создает основания для такого рода слияния, постулируя связь (которую, по-видимому, проблематизирует кантовская «вещь в себе»), но сохраняя расстояние между феноменальным и ноуменальным миром – предпосылку для явления смысла.
Обратим внимание, что это явление в цикле «Слоки» неотрывно от субъекта – («Кто скажет: «Здесь огонь»…»). Смысл, следовательно, воплощает личностная энергия, которая выявляет положение человека на грани мира видимого и мира невидимого, смысл устанавливает отношение причастности личности к этим двум мирам. Таким образом, и слово, и язык, символически сгущенный в слове, представляет собой, эксплицируют смысл в человеческой реальности в качестве ее стремления совпасть с бытием. Язык, таким образом, — действие, энергия, граница (обратим внимание, что у М.Хайдеггера толкование языка гораздо более объектно, чем у Вяч. Иванова. У него это объект восприятия: «язык говорит», а мы «слушаем язык таким образом, что даем ему сказать свой сказ» [5,с.266].
Позиция Вяч. Иванова укоренена в отношении бытия как смысла (Бога) к слову, откуда вытекает онтолого-герменевтическая направленность его мышления. При этом характерно, что соединение онтологии и герменевтики у него абсолютно органично, поскольку герменевтика предает метафизике субъективно-деятельностный характер, переносит центр тяжести с понятия на чувство. Благодаря герменевтике связь «реального с реальнейшим» проясняется именно как укорененное в личности, плотью которой стало слово.
Безусловно, что мышление Вяч. Иванова, когда он обращается к творчеству М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя, Ф.М.Достоевсклого, именно герменевтично в плане понимания «другого» через себя, а себя – через «другого». В принципе, ивановскому подходу ближе всего герменевтика Г.-Г.Гадамера в плане утверждения значимости смыслового измерения чужого текста: «Стремясь понять какой-либо текст, мы переносимся… в ту перспективу, в рамках которой «другой » (т.е. автор) пришел бы к своему мнению… Задача герменевтики и состоит в том, чтобы объяснить это чудо понимания, которое не какое-то загадочное общение душ, но причастность к общему смыслу» [4, с.365]. Тут личность, как и у Вяч.Иванова, изначально разомкнута, поскольку причастна к тому смыслу, который, с одной стороны, существует объективно как часть истины, но раскрывается через взаимообращенность «я» и «другого».
Язык в творчестве Вяч.Иванова – феномен смыслового единства и целостности мира, именно поэтому « в нем заложена была распространительная и собирательная воля; он был знаменован знаком сверхнационального, синтетического, все объединяющего назначения…» [3,с.397]. Отсюда, опять-таки, недалеко до хайдеггеровского утверждения «язык – дом бытия». Однако М.Хайдеггер явно мифологизирует язык, который становится у него столь же универсальным началом в плане проникновения в смежные категории, как и бытие сущего. Вяч.Иванов говорит о «мифологической эпохе языка» и утверждает его религиозную природу. Так, в статье «Наш язык», прочерчивая линии преемственности русского языка с древнегреческим и церковнославянским, Вяч.Иванов видит в этих языках формы соединения с религиозным преданием: «Вследствие раннего усвоения многочисленных влияний и отложений церковнославянской речи наш язык является ныне единственным из новых языков по глубине напечатления в его самостоятельной и беспримесной пламенной стихии – духа, образа, строя словес эллинских, эллинской «грамоты». Через него невидимо сопричастны мы с самой древностью: не запредельна и внеположна нашему народному гению, но внутренне соприродна ему мысль и красота эллинские; уже не варвары мы, поскольку владеем собственным словом и в нем преемством православного предания, оно же для нас – предание эллинства» [3,с.397]. Собственно, и вся критика орфографической реформы в этой статье исходит из того, что она разрывает связь русского языка с православием. Точнее, в стихии языка, по мнению Вяч.Иванова, заложена «всякая имеющая процвести в ней святость» [3, с.398]. Но подлинную религиозность Вяч. Иванов мыслит человекомерной: «В наши дни вера в бога должна сочетаться с глубоким и целостным опытом живой веры в сущее бытие неистребимого и сокровенного «я» в человеке. Вера в бога всегда имела своим соотносительным последствием это переживание, в форме верования в бессмертие души» [3, с. 99].
Если теперь вернуться к началу наших рассуждений, то возникает следующий парадокс. Сосредоточенность на исследовании языка как феномена человеческой культуры в Новое время связана со стремлением привлечь внимание к личностной органике («тип и функции языка есть организм духа»[2, с.237]).Сознание нации осмысляется им по аналогии с личностным и индивидуальность оказывается имманентно проявленной через язык. И вот это расширение горизонтов проявления человеческой личности постепенно порождает ее проблематизацию. Не человек говорит языком, а «язык говорит» (Хайдеггер) человеком, и хайдеггеровское Dazein – не человек в бытии, а бытие в человеке, и в другой, структурно-семиотической логике, та же ситуация. Р. Барт говорит, что язык «по самому своему существу является коллективным договором, которому индивид должен полностью безоговорочно подчиниться, если он хочет быть участником коммуникации» [6, с.114-115]. И еще более резко у Ж. Деррида: «Слова выбирают поэта… Искусство писателя состоит в том, чтобы мало-помалу выполнить волю и интерес слов… Так постепенно книга окончит меня» [7, с.65]. Те же соображения у И.Бродского в нобелевской лекции — «диктат языка». Такого рода утверждения имеют разную логику, и онтологическую, в смысле полагания бытийной сущности языка и места человека «при словах» (М.Хайдегер), и знаковую – в смысле раздельности слова и мира, которая порождает множественность смыслов, где уже нет необходимости в субъекте смыслопорождения (Р. Барт). Движение мысли шло от осмысления языка как формы выявления человеческой субъективности к языку как форме растворения или подавления этой субъективности.
В этом процессе русская религиозная философия, и особенно философское поэтическое творчество Вяч.Иванова, представляет собой опыт удержания бытийности и человекомерности в их взаимообусловленности. У Вяч. Иванова человеческая субъективность безусловно должна быть выявлена – и добровольно подчинена языковому, религиозному целому, которое она выбирает как экзистенциально родственное ей. По сути, в осмыслении слова Вяч. Ивановым отразилась напряженность соотношения между словом как элементом жизненной реальности и прагматического языка и словом, направленным к бытию в его целостности. Здесь намечены два вектора в осмыслении проблемы слова: трагедия «нераздельности и неслиянности» слова и бытия и трагедия ответственности слова перед жизнью.
________________________________________________________
Цитированная литература
1. Булгаков С. Философия имени. Спб.,1998.446с.
2. Гумбольтд В. Язык и философия культуры. М., 1985. 412с.
3. Иванов Вяч. Родное и вселенское. М.,1994. 428с.
4. Гадамер Г. –Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. М.,1988.520с.
5. Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993.446с.
6. Барт Р. Основы семиологии // Структурализм: за и против. М., 1975.380с.
7. Derrida J. Writinq and Difference. Chicago, Chicago Univ. Press, 1978, 235p.
Аннотация
В статье концепция слова и языка, изложенная в статьях Вяч. Иванова и реализованная в его стихотворениях, рассматривается в актуальных контекстах античной и средневековой философии, философии В. Гумбольдта. Автор приходит к выводу о том, что ивановская трактовка слова и языка представляет собой своеобразный рубеж в движении философской мысли от осмысления языка как способа реализации человеческой субъективности к осмыслению языка как форме ее растворения, на котором сохраняется равновесие человекомерности и бытийности.
Опубликовано в: Языки филологии: история, теория, диалог. – Донецк: ДонНУ, 2007. – С. 39-46.
Элина Свенцицкая
Родилась 16 июля 1960г. в г. Самара. Закончила филологический факультет Донецкого национального университета. Защитила две диссертации – кандидатскую: «Пространство, время и слово в творчестве А.Ахматовой» и докторскую: «Специфика художественного слова в творчестве младших символистов и современные проблемы ее изучения». Сфера научных интересов широка: поэзия серебряного века, проблемы специфики художественного слова в современной теории литературы, проблемы анализа и интерпретации художественного произведения, стиховедение. Автор более 60 научных публикаций. Член Национального союза писателей Украины с 2002 года. Автор шести книг: «Из жизни людей» (проза и стихи), «Пустынные рыбы» (стихи), «Простите меня» (проза), «Белый лекарь» (стихи), «Проза жизни» (проза), «Триада рая. Проза жизни» (проза).