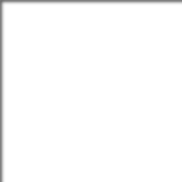Опубликовано Валерий Игоревич Тюпа в Статьи | Нет комментариев
Опубликовано: Вопросы литературы. Январь-Февраль 2011. С. 380-410 Роман Б.Л. Пастернака, несомненно, заслуживает тех самых слов, какие были употреблены его автором в отношении к переводимому «Фаусту»: «Сильное, жизнеустойчивое, богатое теплом художественное произведение», обладающее способностью к самобытному существованию «также точно, как организм»[1]. Одним из проявлений этой органической «силы» (слово, которым герой романа характеризует сущность искусства) является исключительно стройная композиция, напоминающая строфическую организацию стихотворного текста. Обратим внимание, например, на число 14 в устроении художественного целого. Живаго с семьей едет из Москвы на Урал в вагоне № 14, что как бы даже подчеркнуто повтором этой нумерации в тексте. При этом четырнадцатая часть романа является поистине кульминационной: здесь проходят двенадцать дней счастливой семейно-творческой жизни героя; к концу тринадцатого дня доктор отрекается, по его собственному слову, от Лары и со следующего (четырнадцатого) дня начинается пик его отчаянного творчества, о котором повествуется в главе 14; завершается эта узловая часть самоубийством Стрельникова. Стихотворение под № 14 (Август) занимает во многих отношениях ключевое положение в поэтическом цикле и многими моментами перекликается с четырнадцатой частью: темой сновидения и пробуждения, мотивами смерти и бессмертия, любви и творчества, в особенности же словами прощания с женщиной (и олицетворяемой ею в романе жизнью). Читать полностью...
далее